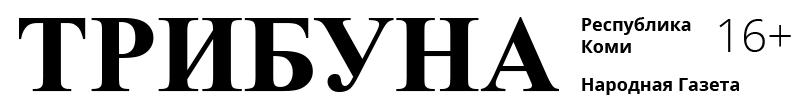Еще до встречи с врио главы РК Ростиславом Гольдштейном его помощники запросили письменные вопросы. У них, в Желтом доме, так давно принято. Я набросал списочек и для солидности даже определил «концепцию интервью»: чем шестой по счету руководитель Коми отличается от предыдущих? По стилю управления, личным качествам, психотипу и т.д.
Но был и скрытый план: в ходе изнурительной (как я задумал) трехчасовой беседы «раскачать» собеседника, довести его «до кондиции». То есть до той степени откровенности, когда ему захочется показать свои «скелеты в шкафу» – от тайных покровителей во власти до семейных секретов.
Увы, этот план провалился. Гольдштейн был дружелюбен, улыбчив, но сдержан и хладнокровен. Он ни разу не повелся на журналистские провокации. Одни темы обсуждал с видимым интересом, другие деликатно и вместе с тем решительно обходил.

Игрушечные задницы
Оказалось, моих предварительных вопросов Гольдштейн не видел – они ему ни к чему. А услыхав «про концепцию интервью», усмехнулся: «Не забивайте себе голову! Я вообще против домашних заготовок. К сожалению, у нас многие представители власти грешат как раз тем, что у них на все имеются заранее подготовленные ответы».
– Видимо, потому, что они всегда уверены в своей правоте?
– Знаете, есть такие карусельки с игрушками, которые развешивают над детскими кроватками. Во время разных семинаров и тренингов я в качестве примера люблю показывать чиновникам две картинки. На одной – вид сверху: мишки, зайчики, все классно, красиво. На второй – то, что снизу видит сам малыш. А перед ним торчат только задницы этих зверушек. И я говорю: «Вот вы, ребята, смотрите сверху. Пытаетесь осчастливить людей, но для начала спросите: а что они сами видят и что им нужно?»
Вам любой мэр с ходу назовет десять вопросов (трубы, котельные, дороги и так далее), которые нужно срочно решить для города, района, поселка. Но если поговорить с местными жителями, они назовут другие десять проблем, не менее важных. Они видят ситуацию иначе, и это надо учитывать каждому руководителю.
О тех, кто был раньше
– Ростислав Эрнстович, вы приехали в Коми еще в начале 90-х и наверняка помните всех руководителей региона, начиная с Юрия Спиридонова?
– У Юрия Алексеевича была хорошая школа – и партийная, и жизненная. Он был управленцем высочайшего класса. Но на его долю выпало сложное, переломное время, и, к сожалению, наша республика (в отличие, например, от Татарстана) тогда лишилась многих крупных активов – от «нефтянки» до Сыктывкарского ЛПК. Впрочем, с позиций сегодняшнего дня об этом трудно судить.
– Последующие главы республики тоже были людьми, я считаю, достойными, хотя и не без недостатков. А вот к «варягам» – Сергею Гапликову и Владимиру Уйбе – было особенно много претензий со стороны местных жителей.
– Сергея Анатольевича я знаю давно, еще с тех пор, когда он работал в аппарате правительства России. Энергичный, работоспособный, системный человек. Однако его «заход» в такой сложный регион, как наша республика, оказался нелегким. Ведь до этого он никогда не работал в условиях ограниченных бюджетных ресурсов, а пришел сюда после «Олимпстроя», где существовал принцип великих строек: «Любой ценой все должно быть сделано!». Это значит, двери любых министерств и ведомств были для него открыты. И вот он приехал в Коми, со всей своей энергией разогнался – и вдруг все «федеральные» двери для него разом захлопнулись…
Вообще, для реализации любого проекта нужны три вещи: время, деньги и персонал. При работе в регионах (а это обычно работа «вдолгую») из этой триады всегда чего-то не хватает, ресурсы ограничены. Значит, надо использовать то, что есть, правильно определить приоритеты. Иначе это будет размазывание манной каши по тарелке.
Если в условиях нехватки денег и времени возникает еще и проблема с кадрами, это совсем плохо. Все помнят чудовищную историю 2015 года, связанную с «делом Гайзера». Но даже после этого система управления все еще оставалась в рабочем состоянии. Зачем было ее демонтировать – разбирать то, что работает? Ведь наша республика долгие годы была на хорошем счету по всем социально-экономическим показателям. Нам было чем гордиться. Коми лидировала по Северо-Западу и стабильно входила в десятку лучших российских регионов. В том числе и благодаря грамотным управленцам. Поэтому надо было делать ставку на местные кадры, а не на приезжих.
– На те же «грабли», что и Сергей Гапликов, наступил потом и Владимир Уйба. Говорят, что он, едва приехав, стал жаловаться одному московскому начальнику: мол, встретили меня в Коми неприветливо, люди здесь какие-то «не такие». Шеф слушал-слушал, потом разозлился: «Тебе что, с людьми не повезло?»
– Думаю, если человеку не нравится место, где он живет и работает, значит, он не любит и тех людей, которые рядом. Они это чувствуют и отвечают тем же.
Я знаю Владимира Викторовича как хорошего профессионала, мы с ним не раз пересекались, когда он еще работал в ФМБА, но это все-таки военизированная организация, там своя специфика.
– Уйба испортил отношения с региональной элитой, сильно обижался на критику и в какой-то момент замкнулся внутри своего аппарата.
– Не хочу комментировать действия предшественника, это не этично. Мое видение такое: каждый руководитель региона должен иметь адекватную обратную связь. Что для этого нужно? С людьми разговаривать! А критика полезна и даже необходима, помогает в работе, если, конечно, она – по делу. В отличие от критиканства. Есть ведь и такие оппоненты, с которыми бесполезно спорить – это как мухам объяснять, что мед вкуснее.
– На коммунистов намекаете, на их лидера Олега Михайлова?
– Ни в коем случае. Олег Алексеевич – депутат Госдумы от Республики Коми, и это главное. А от какой именно партии – уже вторично. И если кандидат от КПРФ в свое время победил на выборах, может, надо не ругать его, а задуматься: что же происходило в тот период в рядах «Единой России»? На мой взгляд, Олег Михайлов адекватно реагирует на запросы населения, особенно по экологической проблематике. Взять, к примеру, недавнюю историю в поселке Краснозатонский. Вроде и задумка была хорошая: построить там глэмпинги, чтобы развивать туризм. Хотели сработать в «плюс», а получили «минус». Потому что сначала надо было посоветоваться с людьми, которые здесь живут. Олег первым обратил внимание на эту ситуацию. Значит, скажите человеку «спасибо», а не воспринимайте его как угрозу. Он правильно ставит вопросы, хотя, может, излишне эмоционально и резко.
– А иначе до вашего брата-чиновника сегодня не докричишься.
– Ну, мне-то кричать не надо. Это ни к чему, у меня слух хороший. Я даже шепот услышу.
– Критиковать власть нынче стало опасно – все больше появляется «красных линий».
– Границы критики определены рамками закона. Нельзя допускать экстремизма. Все остальное – можно.

Бывают такие предложения, от которых нельзя отказаться. В ноябре прошлого года Владимир Путин предложил Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми.
Пришли иные времена
– За последние годы у нас тут многое изменилось. Когда вы вернулись в Коми, не было такой мысли: «Как все запущено!»?
– Нет. Но республика действительно стала другой. Есть и позитивные перемены. Однако с экономикой и социальной сферой все непросто, а управленческая система, на мой взгляд, сильно деградировала. Сформировалась система линейно-административного управления регионом.
– А если попроще, что это значит?
– Это как в известной русской поговорке: «Я – начальник, ты – дурак». Но в современных условиях линейная система администрирования уже не работает. Мир стал многообразен и многозадачен. Будь начальник хоть семи пядей во лбу, он не может быть специалистом во всем и действовать по принципу: «И жнец, и швец, и на дуде игрец». Задача руководителя – объединить вокруг себя людей, компетентных в своих отраслях. То есть создать команду профессионалов.
Причем надо не просто собрать команду, а еще и научить ее методикам управления в современных условиях. В этом нам поможет большая группа экспертов, которая скоро появится в Коми. Мне удалось договориться с Сергеем Владиленовичем Кириенко, чтобы к нам приехали преподаватели, работающие в программах администрации Президента по подготовке управленческих кадров. Кроме того, они произведут и перезапуск Республиканской академии госслужбы. Параллельно мы будем набирать молодых людей 25-30 лет и готовить их под те цели, которые ставим. Помимо прочего, они пройдут хорошую практику, работая в муниципалитетах. Будет конкурентный отбор, в итоге в кадровую обойму попадут только лучшие.
– Но где взять этих лучших? Молодежь массово покидает республику. Самые способные выпускники школ и лицеев, таких, например, как физико-математический, поступают не в местные вузы, а в столичные.
– Нет ничего плохого в том, что наши ребята едут учиться в престижные вузы. Плохо, что они потом не возвращаются. Значит, надо создать для них привлекательные условия. Это долгий системный процесс, но иначе останется старая схема управления: «приехала вахта, уехала вахта». И мы всегда будем проигрывать Москве и Санкт-Петербургу по качеству персонала. Просто потому, что у них финансовых возможностей гораздо больше, они могут купить себе самых талантливых, будущих, условно говоря, Ландау. А у нас нет денег, чтобы купить Ландау «на стороне». Поэтому надо растить здесь, воспитывать, окружать заботой.
Взрослые тоже учатся
– Судя по ключевым назначениям (Братыненко, Максимова, Емельянов), правительство уже сформировано?
– Нет, пока это общие контуры. Понадобится еще месяца три, которые нужны для командообразования, распределения функций и обучения управленцев. Они должны приобрести новые знания и компетенции.
– Но ведь это люди уже взрослые. Неужели московские преподаватели смогут научить чему-то, например, опытную Ларису Максимову?
– Учиться и переучиваться надо всем и всегда. Я, кстати, тоже постоянно учусь.
– Допустим, с кадрами разобрались. И что потом?
– Приступим к формированию фронтальной стратегии развития Республики Коми. То есть развития всех направлений – от промышленности до сельского хозяйства, от социальной сферы до вопросов безопасности (а у нас, на Севере, к таковым относится многое, например, котельные, трубы, топливо и т.д.). Главная цель – улучшение качества жизни людей. Поэтому такая стратегия, разработанная экспертами, должна пройти общественное обсуждение. Если жители республики ее одобрят, будем выполнять.
– В Коми есть министерства, которые непонятно чем занимаются. Например, Минсельхоз в основном распределяет гранты и субсидии. К тому же каждое ведомство обросло различными АНО – автономными некоммерческими организациями – финансовыми «прокладками».
– С аношками, конечно, будем разбираться. Что касается министерств, я бы не сказал, что среди них есть «необязательные». Другое дело, насколько сегодня они справляются со своими задачами. Тот же Минсельхоз, по идее, должен координировать работу по всей цепочке – от местного производителя до магазинной полки. Я считаю, что сельское хозяйство у нас, на Севере, может быть высокоэффективным. Но отдельно этот вопрос не решается – только в комплексе с развитием всей экономики, с созданием инфраструктуры, включая дорожную сеть. Дороги, в том числе и в сельской местности, это один из наших приоритетов.

«Страшный грех»
– Говорят, вы пока редко ездите по районам. В отличие, например, от Уйбы – тот поначалу много колесил по республике – знакомился.
– Мне знакомиться не надо, я ее знаю. Сам все-таки местный. Кстати, до конца 2019 года у меня сохранялась прописка в Ухте. Тем не менее, за несколько месяцев после вступления в должность я уже объехал большую часть территории, составил впечатление о текущем положении дел на местах. Но не все свои визиты я афиширую. Иногда даже главы муниципалитетов о них не знают.
– Втихаря, что ли, ездите?
– А как надо? С оркестром, цыганами и медведем? Нет, просто сажусь в машину – и вперед. Зайду к одному старому знакомому, потом к другому. Неформальные встречи за кухонным столом дают порой больше информации, чем отчеты начальников. А уж потом, после откровенных бесед с людьми, можно и официальный визит нанести.
– Не так давно вы побывали в Микуни. У них там спортивный центр в плохом состоянии. И многие тогда обратили внимание: Гольдштейн не сказал, что быстро решит проблему. А тот же, к примеру, Гапликов наверняка бы заявил: мол, скоро здесь будет спортцентр не хуже, чем в Европе.
– Может, я и не слишком приятный в общении человек, но до тех пор, пока конкретное решение не принято, не могу давать обещания. У нас в республике сотни проблемных объектов, а бюджет на 2025 год был сверстан еще прежним правительством. И меня в нем многое не устраивает. Я считаю, нельзя так вольготно относиться к финансам – ведь это деньги налогоплательщиков, наших жителей. И тем не менее, мы обязаны исполнять текущий бюджет. Максимум возможного – внести корректировки, да и то небольшие. Поэтому микуньцам я объяснил: протечки кровли устраним, сделаем проектно-сметную документацию, но сам ремонт здания – только в 2026 году. Пообещать что-то большее – значит, солгать.
– Что вообще-то не считается большим грехом у чиновников.
– Нет, с точки зрения государственного управления, это как раз страшный грех. Тут даже не вопрос морали – просто искаженная информация порождает неправильные управленческие решения. В наше время это может иметь плохие последствия, до цугундера довести. Поэтому сам я врать не хочу и другим не советую.
– Обычно первые лица региона с ножницами в руках присутствуют на открытии новых объектов, будь то школа, медпункт, спортплощадка. Все, что строится за бюджетные деньги, они считают своей личной заслугой. Есть даже такой термин – «работать на ленточку». Как вы относитесь к самопиару за казенный счет?
– Я ленточек не режу, всячески уклоняюсь от подобных мероприятий. Не вижу в них особого смысла. По-моему, это пустая трата времени. Вот если бы они привлекали внимание федерального центра и приносили республике дополнительные средства, тогда другое дело – я бы занимался этим хоть каждый день.
– Зато публичные торжества дают дополнительные бонусы руководителю. Ведь каждый начальник хочет, чтобы его любили.
– А меня вот любить не надо. Я не тульский пряник и не 500-рублевая купюра.
– Помнится, Юрий Спиридонов в таких случаях говорил: «Я вам не «сникерс».
– Вы теперь аккуратнее со словом «сникерс» (смеется). Один известный товарищ может обидеться…
*Прим ред. Гендиректором ПАО «Т Плюс» недавно назначен П. Сниккарс. Кстати, он уже побывал в Коми с рабочим визитом.

«Давно это было»
– Итак, громкие пафосные церемонии вам не по нраву. Не потому ли, что Гольдштейн когда-то занимался бизнесом, а деньги, как известно, «любят тишину»?
– Слушайте, я бизнесом занимался всего 10 лет. А уже 25 лет занимаюсь политикой.
– Но как тут не вспомнить ухтинский период, «лихие» девяностые, ваше темное прошлое?
– Почему это оно темное? Для меня как раз – светлое. А что тут вспоминать? О том, как с ребенком на руках жил в двухкомнатной квартире вместе с тестем и тещей? Причем постоянно в разъездах, жена – в одной части страны, я – в другой, и каждый раз встречались, как в первый… Да, времена были трудные, однако ничего особо интересного я не припомню. Все-таки давно это было, четверть века назад.
– Бывшие партнеры по бизнесу называли вас «прожженным коммерсантом» и «жестким переговорщиком». Это правда?
– Насчет «прожженного» не соглашусь – это абсолютно некорректно. Что касается «переговорщика», то да – в какие-то моменты довольно жесткий, но, если это нужно для дела, всегда нахожу компромисс.
– «Торговый дом Гольдштейн» жив и поныне?
– И жив, и развивается. Но я уже много лет не имею к нему отношения. Бизнесом занимаются мои жена и дочь. И я очень рад за них – женщины сами зарабатывают деньги.
Там, на самом верху
– Вы были депутатом Госсовета, дважды депутатом Госдумы, сенатором и во второй раз стали руководителем региона. А по партийной линии, как пишут СМИ, Гольдштейн работал в 22 субъектах РФ, причем в роли так называемого «антикризисного менеджера». Кто вам помог сделать столь головокружительную карьеру? Называют громкие фамилии: Володин, Трутнев и чуть ли не сам Путин.
– Нет, система власти так не работает. Тот же Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы – Ред.) не раз меня строго отчитывал за малейшие недочеты в работе. Но, главное, всегда – по делу. Умный начальник тем и отличается, что интересы дела для него – на первом месте. А мне действительно повезло работать под началом очень умных людей, это отличная школа. Но и спрос за все перед ними всегда очень жесткий.
– А взяток вам, Ростислав Эрнстович, не приходилось давать за свое продвижение по карьерной лестнице?
– Давайте я в свою очередь спрошу: «Вы, Владимир Рудольфович, продолжаете пить коньяк по утрам?» Вопрос из той же провокационной серии. Тем не менее, отвечу: нет, не приходилось. Ни разу и никому. Там, наверху, уж поверьте, все гораздо сложнее устроено – не так, как некоторые обыватели себе представляют.
На охоту – без ружья
– Позвольте еще несколько бестактных вопросов. На сей раз – о личном. Как обустроились на новом месте, где вы сейчас живете и с кем?
– Живу в Лемью и в основном – один. Жена и дочка бывают наездами. Муж моей дочери Анны полгода назад ушел на СВО добровольцем. Остальные члены семьи гостят в Лемью регулярно. У меня два внука и внучка. И когда они приезжают всей «бандой», я, как дедушка, абсолютно счастлив.
– Как насчет тайных пороков и вредных привычек? Например, алкоголь, картишки, другие азартные игры?
– Опять разочарую: я человек не азартный, ни в карты не играю, ни в бильярд. Насчет спиртного – тоже не профессионал и даже не любитель. У нас в семье это было не принято, и сам я к выпивке равнодушен.
– Как же вы расслабляетесь после работы?
– Я от нее, можно сказать, и не устаю. Работа для меня – это главное удовольствие в жизни, она мне – в радость.
– Почти все главы республики, за исключением, пожалуй, Гайзера, запомнились нам как страстные рыбаки и охотники. Увы, были среди них и браконьеры.
– Я тоже могу пойти с ребятами на охоту, но лучше все-таки посижу у костра, сварю товарищам поесть или просто погуляю, подышу свежим воздухом.
– То есть из ружья не стреляете?
– Говорят, раненый заяц плачет, как ребенок. Нет, убивать зверей – это не мое. Зато рыбалку люблю, в том числе и нашу, северную. Да и просто люблю бывать на природе. Особенно на реке, на море, и лучше всего – на лодке или под парусом. Там, на чистой воде, все видится по-другому, иначе дышится. Недаром же говорят: надышаться можно только ветром. Ветер – это движение, это сама жизнь…
Беседовал Владимир СУМАРОКОВ.
ПОСТСКРИПТУМ
В качестве резюме
Естественно, далеко не все откровения врио главы Коми вошли в интервью. Он был осторожен и несколько раз в ходе беседы просил выключить диктофон. При этом никаких особых секретов, на мой взгляд, все равно не сообщил. А что меня действительно удивило, так это его пассаж про «деньги наших налогоплательщиков», которые надо беречь – давненько я не слыхал от чиновников таких слов.
Принципы управления регионом, которые сейчас провозглашает г-н Гольдштейн, выглядят неплохо: открытость, обратная связь с населением, ставка на молодежь, тщательный подбор команды и «зеленый свет» – местным кадрам. Другое дело, будет ли он сам этим принципам соответствовать. Особенно после первых же неудач и разочарований (а они неизбежны).
Думаю, что уже к осени (в сентябре состоятся выборы главы республики) каждый из нас составит о нем свое собственное мнение. Мой же вывод, отчасти интуитивный, таков: Гольдштейн очень даже не прост. Этот человек, когда надо, умеет быть гибким, приветливым и радушным. Но он, видимо, из тех, про кого говорят: «Мягко стелет, да жестко спать».
Что же касается его «ментального скелета» (психотипа), то Р. Гольдштейн, я думаю, циклотимик. Этот тип обладает высоким жизненным тонусом (за исключением кратковременных периодов меланхолии). Циклотимик работоспособен, активен, методичен и нацелен на карьеру. В быту консервативен, в финансовых вопросах расчетлив и даже прижимист. Такие люди рождены для бизнеса, но могут быть успешны и в других сферах деятельности. Циклотимики общительны и дружелюбны, у них мягкий, без сарказма, юмор, однако они, как правило, сохраняют дистанцию и говорят далеко не все, что у них на уме.
.