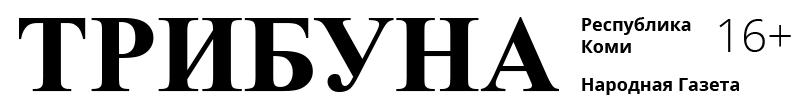В 19-м веке Усть-Сысольск был самым отдаленным городом Вологодской губернии. Однако именно столь невыгодное географическое положение стало причиной того, что в далекий уездный городок попали такие люди, как бывший член декабристского «Союза благоденствия» Григорий Перетц и известный публицист, профессор Московского университета Николай Надеждин.

Острый Перетц
Григорий Перетц был первым и долгое время единственным евреем в Усть-Сысольске. Но за несколько лет до прибытия в уездный город он оказался еще и единственным евреем среди декабристов – большей частью русских дворян-аристократов.
Отцом Григория был известный общественный деятель и крупный коммерсант Абрам Израилевич Перетц. Еще в конце 1790-х гг. он сумел преодолеть черту оседлости и поселиться в Санкт-Петербурге, где подружился с элитой высшего общества столицы, а в эпоху Александра I стать другом великого русского реформатора Михаила Сперанского. Во время Отечественной войны 1812 года Абрам Перетц вложил крупные средства в продовольственное снабжение русской армии. Но поскольку истощенная войной казна не выполнила своих обязательств по контракту, Абрам Израилевич понес огромные убытки и вынужден был объявить себя банкротом.
Его сын, Григорий Абрамович, прослушав курс политэкономии в Главном педагогическом институте, поступил на службу в канцелярию государственного казначея, несколько лет проработал в Новороссийском крае, где ему довелось участвовать в борьбе с чумой. В июле 1817 года он вернулся в столицу и был принят в канцелярию петербургского генерал-губернатора графа Михаила Милорадовича.
Там Григорий Перетц познакомился с адъютантом Милорадовича, поэтом Федором Глинкой. Они оба строили планы обновления Российской империи и приняли активное участие в создании тайного общества «Союз благоденствия».
Формально эта организация не стремилась к революционным преобразованиям, а провозглашала лишь распространение «истинных правил нравственности и просвещения», помощь правительству в благих начинаниях и смягчение участи крепостных. На самом же деле руководители «Союза» ставили конечной целью установление конституционного правления и ликвидацию крепостничества. Григорий Перетц придумал для революционеров особый пароль – «хейрут», что в переводе с иврита означает «свобода».
В 1821 году «Союз благоденствия» самораспустился, а на его основе возникли «Южное общество» в Киеве и «Северное общество» в Петербурге. Григорий Перетц не вошел ни в одно из них, хотя и знал об их существовании. 14 декабря 1825 года он не только не вышел на Сенатскую площадь, но накануне даже предупредил тайного советника Гурьева, что в день присяги Николаю I возможны возмущения. После неудавшегося восстания Перетц заявил одному из своих друзей: «Бунтовщики весьма глупо сделали, начав дело, не быв уверены в войске и без артиллерии, оружия самого решительного; что вместо дворца пошли на площадь; что, не видев со стороны начальства артиллерии, простояли неподвижно, как бы дожидавшись, чтобы ее привезли на их погибель».
Однако об участии Григория Абрамовича в деятельности тайного общества стало известно следственной комиссии, его арестовали, несколько месяцев продержали в Петропавловской крепости, затем сослали в Пермь, а уже оттуда 13 августа 1827 года перевели в Усть-Сысольск.
Григорий Перетц прожил в уездном городе 13 лет. Он стал одним из первых политических ссыльных Усть-Сысольска и настоящим подарком для местной власти. В то время в зырянской столице ощущался острый дефицит грамотных людей, а тут им в руки попал человек с высшим образованием и огромным опытом канцелярской работы. Надо думать, они нашли ему «работу по специальности».
В Усть-Сысольске умерла его жена – баронесса Мария Гревениц. Второй раз Григорий Абрамович женился лишь в 1846 году.
В июле 1839 года бывший декабрист наконец покинул «зырянскую столицу» и перебрался в Вологду, где поступил на государственную службу. Но незадолго до этого он познакомился в Усть-Сысольске с другим вольнодумцем – Николаем Надеждиным.

Николай Надеждин.
Взгляд из «Телескопа»
Сын сельского священника Николай Надеждин поначалу и сам выбрал себе духовную карьеру, но в годы учебы в Рязанской духовной семинарии и Московской духовной академии увлекся философией. И в 1826 году, проработав два года профессором словесности и немецкого языка в Рязанской духовной семинарии, вышел в отставку и вернулся в Москву.
В Первопрестольной Николай Иванович занялся журналистикой и первой же статьей в журнале «Вестник Европы» высмеял модных в те годы литераторов, в числе коих оказался и Александр Пушкин, которого, тем не менее, автор очень высоко ценил. Сделав себе имя в журналистике, Надеждин основал в 1831 году собственный журнал «Телескоп», а годом ранее защитил диссертацию по романтической поэзии и получил степень доктора этико-филологических наук. В декабре 1831 года он стал ординарным профессором Московского университета по кафедре теории изящных искусств и археологии.

Григорий Перетц.
В 1836 году Надеждин вернул себе скандальную славу, начав публиковать в «Телескопе» «Философические письма» бывшего члена «Союза благоденствия», масона Петра Чаадаева. В самом первом и единственном опубликованном в журнале письме философ рассуждает о месте России в современном мире и приходит к горькому выводу: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили».
К несчастью, этот номер «Телескопа» попал к Николаю I, которому не понравился столь нелестный отзыв об управляемой им империи. Самодержец повелел журнал закрыть, а Надеждина выслать в Усть-Сысольск под присмотр полиции. Выбор города в качестве места ссылки был неслучаен.
«Город, где замерзает ртуть»
Незадолго до злополучной публикации профессор Надеждин совершил поездку по европейским странам и поделился впечатлениями на страницах «Телескопа». Вот что он, в частности, написал по поводу одной французской провинции: «Бельфор – городок прекрасный с отличным обществом из офицеров, знающих крепость, городок почти швейцарский, …следовательно, не какой-нибудь наш Усть-Сысольск или Стерлитамак». Вот Николай I и решил отправить опального журналиста в один из этих российских городов.
Николай Иванович до этого в Усть-Сысольске не бывал, но напитался самыми мрачными слухами: якобы «ртуть там зимою замерзает, так что можно делать из нее биллиардные шары». И вообще, «в этом городе прекращается не только народонаселение, но и растительность». С таким настроением он и прибыл на место ссылки.
Встретили Надеждина в Усть-Сысольске как почетного гостя. Городничий в полной парадной форме вытянулся перед ним по стойке смирно и доложил о состоянии города и уезда, после чего поселил ссыльного «в домике прелестном, на хорошем месте». Все дело в том, что по пути в Усть-Сысольск Николай Иванович остановился по состоянию здоровья в Вологде и вологодские власти направили в уездный город бумагу, в которой охарактеризовали Надеждина тремя словами: «советник, кавалер и профессор». И, как он позже вспоминал, «городничий знал высокое значение статского советника и кавалера, но значение профессора было для него чем-то мифическим и, следовательно, тем более важным».
«Чудный народ»
В одном из писем друзьям Николай Иванович признался, что оказался «на берегах Сысолы, в сырых туманах Лукоморья». И ему очень понравились люди, живущие в этом сказочном месте. Вот как он вспоминал про них: «Когда я узнал немножко по-зырянски и стал говорить им приветливые слова, они обрадовались, смеялись и пересказывали мне слова, а когда я выучился уже порядочно говорить, радости их не было конца…».
Позже, в 1839 году, в петербургском альманахе «Утренняя заря» Надеждин опубликует очерк «Народная поэзия у зырян», в котором напишет: «Зыряне – народ чудный. Они не только не пугаются учености, но даже питают к ней какое-то особенное благоговение». При этом профессор сделает неожиданное предположение, что это у них остаток древнего языческого суеверия. «Вся северная Чудь в старину боготворила медведей, этих мохнатых отшельников, которых уединенные берлоги неоспоримо были первообразом ученых затворнических кабинетов, – отметил Николай Иванович. – Впрочем, так или не так – но дело в том, что Зыряне приняли меня очень радушно, охотно дозволили изучить себя и подверглись наблюдениям моим с такою снисходительностью, какой не имеют, конечно, наемные Форнарины, когда позируют перед купившими их Рафаэлями».
Еще он вспомнит про маленькая девочку, которая чуть ли не каждый день приносила ему в самодельной корзиночке морошку и другие ягоды. А когда он уезжал, старая женщина принесла ему целый ворох чулок, связанных ею из толстых ниток.
Ссылка Надеждина закончилась 11 января 1838 года. Николаю Ивановичу разрешили жить сначала в Вологде, а затем и в любом городе по его желанию. За те полгода, что он провел в Усть-Сысольске, Надеждин подготовил и опубликовал целый ряд работ историко-географического характера. По сути, он открыл для русских Коми край. И это в то время, когда этнография как наука находилась еще в зачаточном состоянии.
Игорь БОБРАКОВ.